«Хочу записывать дела наших дней. Прочесть будет очень любопытно лет через 5–10. Недаром же Россия — страна неограниченных возможностей». Художница Любовь Шапорина вела дневник на протяжении 70 лет, бесстрашно описывая как события блокады, террора, войны, так и свое к ним отношение. Публикуем отрывки из этого уникального документа.
Ольга ВИНОГРАДОВА
В 2011 году в издательстве «Новое литературное обозрение» в двух томах вышел дневник Любови Шапориной (1879–1967) — художницы, переводчицы, создательницы первого в СССР театра марионеток. Любовь Шапорина, в девичестве Яковлева, принадлежала к дореволюционной творческой интеллигенции, большую часть жизни прожила в чуждом ей Советском Союзе, застав несколько исторических эпох: ее записи начинаются в ноябре 1898 года и с небольшими перерывами охватывают почти 70 лет, вплоть до конца 60-х годов. Самый важный период в дневнике Шапориной — сталинские репрессии и блокада: здесь она выступает трезвой и бесстрашной свидетельницей.

Поначалу это был обычный частный девичий дневник, сконцентрированный на эмоциях и переживаниях: «Если бы я только могла не копаться в себе, не анализировать малейшее свое ощущение. Ведь этот самоанализ прямо возмутителен — он мне ни на минуту не дает покоя». Так продолжается вплоть до революции, когда Шапорина, находясь внутри событий, вдруг осознает ценность исторического свидетельства: «Хочу записывать дела наших дней. Прочесть будет очень любопытно лет через 5–10. Недаром же Россия — страна неограниченных возможностей. В Россию можно только верить». В 1938 году она напишет уже о важности сохранения личной истории — вопросе, который волновал ее до конца жизни:
«Прежде вещи хранились из поколения в поколение, сохранялись архивы, создавалась история. Теперь сегодняшний день отрицает вчерашний, сегодня расстреливают вчерашних вождей, все вчерашнее уничтожается и в умах молодежи. Папа приучил меня болезненно чтить все эти бумажонки, записочки вчерашнего дня».
В 1914 году Любовь Яковлева вышла замуж за тогда студента Московской консерватории, а впоследствии известного композитора Юрия Шапорина, у них родилось двое детей: Василий и Алена. Семейная жизнь оказалась для нее несчастливой, брак вскоре распался, отношения с сыном становились все напряженнее, любимая дочь умерла в возрасте 12 лет от воспаления легких. Годы одиночества, сложные отношения со знакомыми и семейные перипетии нашли отражение в дневнике наряду с историческими свидетельствами.
Важно понимать, что вести дневник в СССР было совсем не безопасно, особенно учитывая остроту высказываний Шапориной о режиме и окружающей действительности, а также ее происхождение и обстоятельства жизни . Поэтесса Мария Степанова называет ее дневник «несовместимым с жизнью». При этом Шапорину вербовал НКВД — и она согласилась стать осведомительницей, про себя решив «разыгрывать» чекистов!
«Редко урываю я время, чтобы писать. А к этим тетрадям у меня отношение как к каким-то очень дорогим и немножко запретным друзьям», — записывает Шапорина в 1935 году. Схожие чувства к своим записям испытывали авторы других знаменитых и критических по отношению к СССР дневников: Корней Чуковский, Михаил Пришвин, который закопал свои дневники в лесу и потом выкопал их («За каждую строчку моего дневника — десять лет расстрела»), Ольга Берггольц, которая из пламенной комсомолки превратилась в трезвую жертву и свидетельницу репрессий, героиню блокады. Но никто из них не доходил до той степени нонконформизма, который мы встречаем у Шапориной, притом что ее откровенность порой шокирует. Она прямо пишет о своей ненависти к власти («глупые, разъевшиеся морды Сталина и Молотова»), о повсеместном абсурде («Сегодня празднуют 250-летие Ленинграда. Почему Ленинграда? Какая чушь») и демонстрирует прекрасное понимание происходящего: «тот расстрелян, другой расстрелян, расстрелян, расстрелян — это слово висит в воздухе»; «За видимой нищенской жизнью — стон, общий стон однообразным гуденьем звучит над целой страной». А иногда вдруг проявляет прямой шовинизм и расизм — например, рассуждая о «неграх» как «низшей расе». В дневнике можно отыскать и бытовой антисемитизм, который, однако, не мешает Шапориной осуждать антисемитизм государственный.
C исторической точки зрения шапоринский дневник, история тяжелой и трагической жизни, — ценнейший документ, в том числе одно из ключевых «низовых» свидетельств о блокаде. В годы войны Шапорина работала медсестрой в госпитале при глазной лечебнице, затем собирала материалы на тему «Театр и музыка в условиях блокады», переводила с французского языка медицинскую литературу — и параллельно записывала то, что видела и осмысляла: «воровство неслыханное»; «бесчисленное количество трупов, которых не хоронят за отсутствием гробов»; «мертвец прыгал, танцевал в колясочке». Есть здесь и слухи о людоедстве.
Мы выбрали 20 цитат из этой непростой и важной книги.
О будущем

«Сегодня кончились экзамены, следовательно, навсегда кончились наши занятия на школьной скамье — выходим в жизнь. Что то там ждет нас? Бог весть, но я бы страшно желала одного — не отступать от известных правил, которые мне нравятся: во первых, как говорит Л. Толстой в своем „Воскресении“, — жить, веря себе, не веря другим. То есть не доверять мнению большинства общества, идти всегда прямо — прямо. Господи, дай мне сил, помоги мне идти по такому пути, всегда анализируя свои действия. Это главное; нельзя жить и только жить, предоставляя себе действовать так себе, просто как влечет момент, что тебе в данную минуту весело, интересно. Только не это. Жить так и действовать так, чтобы каждый вечер душа, совесть была вполне спокойна, чтоб не было этих мучительных укоров за каждую глупость».
15 мая 1899 года
О довольстве жизнью
«Да, могу сказать, что эта моя жизнь вполне мне по вкусу, и если есть человек, которому на Руси жить хорошо, то это я. Говорят, кажется, что довольство настоящим — признак глупости, тупости, — но это мне все равно. Я только что просмотрела дневник — я подумала, что всей моей жизни и молодости крышка. А только здесь то я и зажила как следует. Я занимаюсь порядочно, хотя Лебедев и говорит, что у меня все выходит легкомысленно, до 6 1⁄2 или 7 остаюсь в Школе.
Вчера весь день провела с Мар. Вас. в Петергофе. Жаворонки, свежий воздух, природа!
Бодрость, жизнь, надежда — это все счастье, даже без любви. Надо будет непременно подробно описать впечатления этого года. Больно уж хорошо, светло и, главное, потому, что всегда занята чудным делом, и цель есть, и дело, и надежда, и весело».
17 марта 1903 года
О Февральской революции

«Начали, кажется, 23-го бастовать трамваи. Рабочие бастовали, собирались на улицах, ходили разноречивые слухи об усмирении их казаками. В субботу 25[-го] трамваи перестали ходить совсем, и днем, говорят, была стрельба на Невском, много было убитых. На думе (городской) стоял пулемет и расстреливал толпу. К вечеру это успокоилось, но в воскресенье 26-го стали ходить слухи, что полки отказываются усмирять рабочих, что казаки везде очень мирно ездят за толпой, а усмирители только полицейские, переодетые в солдатскую форму. Рассказывали, что у Знаменской пристав отсек руку студенту, несшему красное знамя. Казаки же зарубили пристава».
1 марта 1917 года
О возвращении на родину из эмиграции
«Мама и Леля все зовут меня вернуться к своим пенатам. А где мои пенаты? Меня ужас, жуть берет при мысли о России. Одичавшая, грубая жизнь, грубый язык, какое-то чуждое мне. Совсем искренно — умереть я хотела бы в Италии. И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать… но я бы хотела истлевать в Риме, в моей Святой земле. Там и земля должна быть культурна, каждый атом дышит прахом стольких бессчетных поколений культуры. С Энея до Муссолини или Пия Х. <…>
<…>
Хотя Юрий что-то очень уж стал дружить с Васей , намекает на мое возвращение. Не хочется. Я бы так хотела ему помочь, заставить его работать, достигнуть всего того в музыке, что он может дать. Но жить с ним под одной кровлей не хочу. Нет на это сил. У меня полная атрофия самозащиты перед такими людьми. Я покоряюсь, бегаю на посылках и только бегством умею спасаться. Так я ушла от мамы в юности, ушла от Юрия. Так же действует на меня Л. Д. Потемкина. Надо все делать как ей этого хочется, она все знает доподлинно, и я не умею с ней спорить».
Париж, 23 марта 1927 года
О дефиците

«Знакомая К. служила в Москве гидом и была приставлена к каким-то иностранцам, которым понадобилось купить кусок туалетного мыла. Обошли весь город и не нашли. Иностранцы были удивлены, а девица страшно сконфужена. Она отправилась в Наркоминдел, рассказала это, и ей дали наряд на мыло, которое она и передала своим иностранцам. Они опять удивились и стали допытывать ее, какими судьбами ей удалось достать это мыло. Узнав, в чем дело, они взяли да и написали благодарственный адрес в Комиссариат иностранных дел за доставленный им кусок мыла. Девице влетело, и, кажется, она лишается места.
Но что должен думать приезжий европеец о стране, в которой на 13-м году революции, в мирной обстановке обыватель не может себе купить куска мыла? Кому это нужно — вот что меня интригует».
16 июня 1930 года
Об аналогиях
«Сейчас на столе передо мной откуда-то появилась какая-то мошка. Я ее прикрыла большой лупой в металлической оправе, так что между столом и стеклом есть пространство. Мошка неистово забегала, ища выхода. И я подумала: мы все, вся Россия так прихлопнуты. Вначале все бросились бегать, с севера на юг, с юга на север, из столиц в маленькие города (три миллиона выпрыгнули совсем за границу). Теперь большинство поняло, что податься некуда, все равно везде тюрьма и везде голод. Еще интеллигенция бессознательно хочет куда то выпрыгнуть, бежит за полярный круг, на Памир, в стратосферу, а мужики просто дохнут, лежа на своей лавке. А в газетах: ура, ура, ура. Я сейчас выпустила мошку, и она сразу же взвилась и полетела. У меня не хватило духу оставить ее под крышкой до смерти. Я не экспериментатор».
24 ноября 1933 года
О расстрелах 1937-го
«У меня тошнота подступает к горлу, когда слышу спокойные рассказы: тот расстрелян, другой расстрелян, расстрелян, расстрелян — это слово висит в воздухе, резонирует в воздухе. Люди произносят эти слова совершенно спокойно, как сказали бы: „Пошел в театр“. Я думаю, что реальное значение слова не доходит до нашего сознания, мы слышим только звук. Мы внутренно не видим этих умирающих под пулями людей. Называют Кадацкого, Вительса — певца, только что певшего на конкурсе, Наталью Сац — директоршу московского ТЮЗа . И многих других».
10 октября 1937 года
О развлечениях и вопросах в годы террора
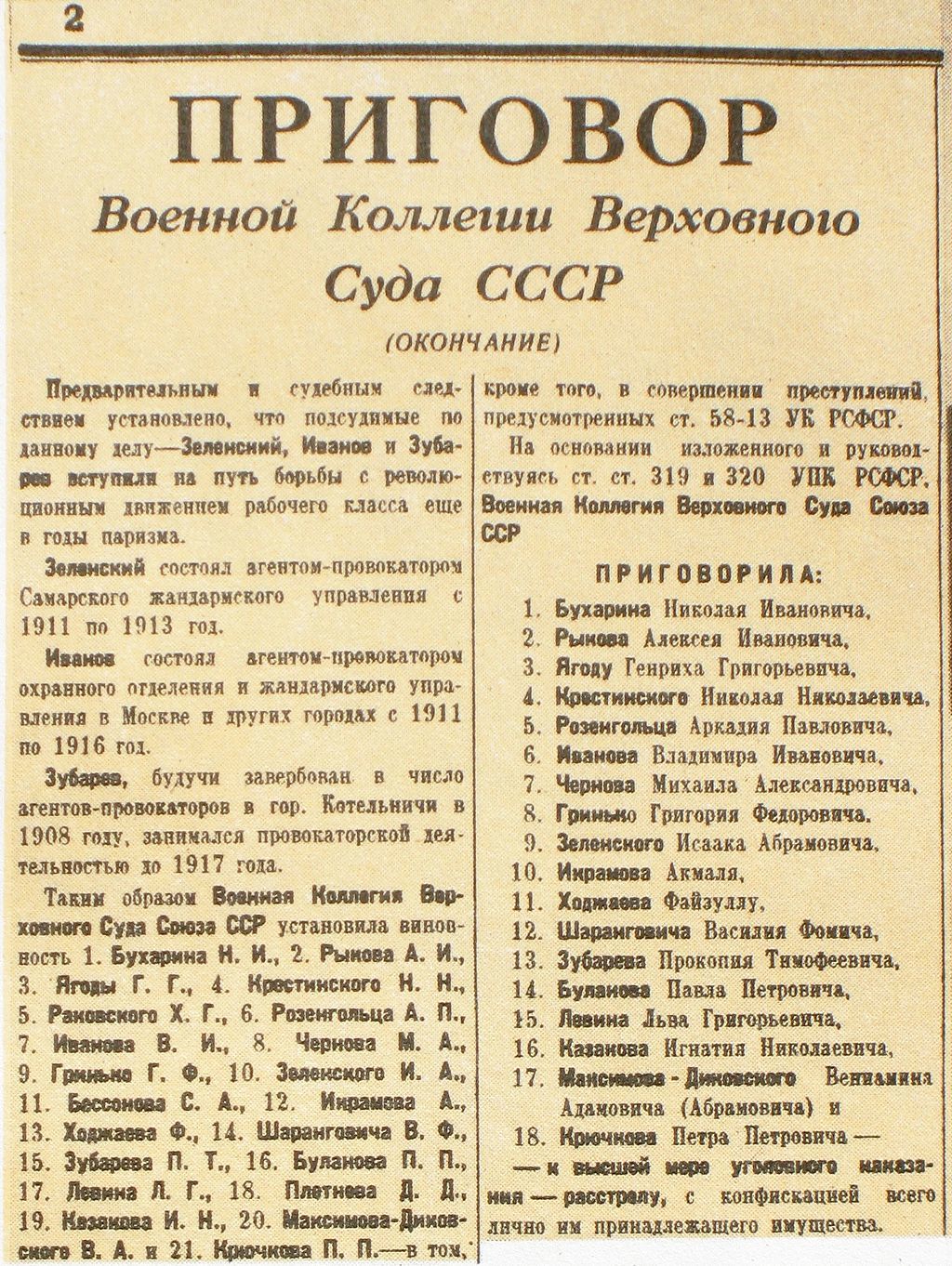
«Вася часто возмущается, что я не хожу в кино, в театр. По ним, по современной молодежи, впечатления скользят, не доходя до сознания. С детства они привыкли к ужасу современной обстановки. Слова „арестован“, „расстрелян“ не производят ни малейшего впечатления.
А каково нам, выросшим в Человеческой, а не звериной обстановке; впрочем, зачем я клевещу на бедных зверей.
Мне непонятно вот что: Ягоду расстреляли , и он, и его поступки, и его приспешники опорочены. Казалось бы, логически рассуждая, все высланные им ни в чем не повинные люди, вроде сотен тысяч дворян, высланных в 35-м году за смерть Кирова (убитого Ягодой), должны были бы быть возвращены.
Выходит как раз наоборот. Сейчас все, отбывшие свои 5 лет или 3 года, получают еще столько же и ссылаются много дальше. Как это понять?»
8 апреля 1938 года
Об очередях и номенклатуре
«Они, эти люди, могут стоять в очереди часы, дни, сутки. Терпению их нет границ. Это не терпение, а тупость и маниакальная мысль: дают селедки. Неужели ты не обойдешься без селедки? Нет, это самовнушение, убившее все остальное».28 апреля 1939 года
«Иду по Фурштатской к Литейной. Встречаю гражданку с тазиком, наполненным кислой капустой. Как теперь все делают, бросаюсь к ней: „Гражданка, где вы брали капусту?“ <…>
„А где нам дали, вам не дадут“, — был гордый ответ. Я засмеялась. Все понятно. Рядом находится распределитель НКВД».
29 апреля 1939 года
О блокадном голоде

«Эти все дни для меня прошли под знаком голода. Оставшись без карточки на всю декаду до 11-го, я в первый момент решила, что не выдержу, умру. Но, по-видимому, силы у нас очень растяжимы. 4-го вечером с дежурства я зашла в столовую справиться, не нашлась ли карточка. Гражданка, режущая и отпускающая хлеб, сжалившись надо мной, предложила мне из своих сбережений грамм 300 хлеба. Я взяла. Тронуло это меня очень. Вернувшись в больницу, съела их тотчас же с соевым молоком, которое мне дают в день дежурства (пол-литра). На следующий день я принесла ей четыре серебряных кофейных ложечки. 5 июня променяла на Кузнечном рынке чудесный шелковый русский платок с лиловым рисунком на коричнево-зеленом фоне на один килограмм хлеба! Покупательнице это обошлось 1 р. 10 коп. — рыночная цена хлеба 500 р. кг.
С безумной жадностью в тот же день съела гр. 600, запивая кипятком. На 6-е осталось 400 гр. Зашла утром к Животовым. У них есть спекулянтка, меняющая вещи на продукты, отнесла серебро — чайник, молочник и сухарницу и эмалевое яичко, из которого делаются две рюмочки. Очень мне серебра жалко. Папа их подбирал одну вещь за другой, после маминой смерти сухарницу для печенья и молочник взяла Леля, а я молочник того же стиля купила в Детском.
Но голод, истощение, головокружение так страшны, что, очевидно, надо жертвовать всем, а у меня вообще ничего нет. Мебель не идет».
7 июня 1942 года
О вербовке НКВД
7 июля 1942.
«Он предъявил мне свою книжку: сотрудник милиции Балтийского флота. Сверху НКВД. По фамилии Левин. <…>
<…>
<…> Левин мне ставит ультиматум: „Мы оставляем немного народа в Ленинграде, город будет военный, но они должны быть у нас все на виду, мы должны знать об них все. Поэтому я с вами буду встречаться и в дальнейшем, и вы будете меня держать в курсе того, что говорят и думают ваши знакомые, хотя бы только Толстая и Плен, этого уже достаточно“.
Влипла! Я — сексот! Это здорово!
С час я протестовала, ссылаясь на свой прямой характер, на то, что я оскорблена, на то, что я поддерживаю знакомство с очень небольшим кругом людей, которых считаю честными и порядочными.
Ничего не помогло. Я подумала: толку они от меня не добьются, доносами и провокацией я заниматься не буду, тут хоть меня расстреляй. А ну их к черту.
Я ему это сказала (кроме последнего восклицания). „Да разве мы требуем? За ложь и провокацию вы первая будете наказаны“.
И заставил меня подписать бумажку, что, во-первых, я никому об наших свиданиях не разглашу, а затем что я и впредь буду выполнять поручения органов НКВД. Тут я тоже долго сопротивлялась, но тщетно. Мне в конце концов стало даже смешно. Я подпишусь, черт с ними. Paris vaut bien une messe . Но кто кого обманет, еще неизвестно. Если бы передо мной встало конкретное предательство, я пойду и на высылку, на арест, на расстрел. Я себя знаю».
О Пасхе накануне Дня Победы

«Галилеянин, конечно, победил. Вернулась от заутрени. В церковь войти было невозможно, все пространство в ограде, улица и площадь вокруг церкви были полны народа. Многие стояли со свечами. Я вошла за ограду и стояла так, что могла видеть хоругви крестного хода. Это впервые после перерыва лет в 20. Запели „Христос воскресе“, толпа запела вполголоса, подпевая хору, отвечала священнику „Воистину воскресе“, отвечала радостно. Армия взяла Берлин, а мы добились того, что Церковь выходит из подполья или из застенка, не знаю, какое определение верней.
Когда крестный ход вернулся в церковь, толпа стала расходиться, я отошла к дереву и говорю вслух: „Слава богу, хоть ‚Христос воскресе‘ услышала“. Рядом стоящая женщина (интеллигентная) как-то особенно задушевно воскликнула: „Господи, какое счастье!“
Рассказывают, что на партийных собраниях политруки заверяют всех, что такое попустительство Церкви только временное, но мне кажется, что их надежды напрасны.
У Елисеева продают пасхи по 250 рублей за кило и крашеные яйца.
Собор был весь освещен свечами, освещено было также все кружево ветвей желтоватым светом на фоне темного неба. Блестели яркие звезды, и кругом море черных силуэтов с кое-где мелькающими свечами».
6 мая 1945 года
О первом Новом годе после войны
«Встречали Новый год — Евгения Павловна, девочки и я. „Это самая счастливая встреча Нового года в моей жизни“, — сказала Евгения Павловна. Девочки сияли, была счастлива и я, глядя на их счастье. А счастье, конечно, огромное. Уцелеть всем в этой восьмилетней катастрофе, найти девочек здоровыми, чистыми, как горный хрусталь, хорошенькими, хорошими. И самой не опуститься, сохранить бодрость духа. Как тут не быть счастливой.
Мы соорудили встречу: я получила как-то прескверную водку „Красный дубняк“, мы налили пол-литра сиропа, черничного сиропа, и получилось что-то вроде наливки. Из тех крох, что у меня были, Е. П. соорудила очень вкусный ужин, были сыты и счастливы. Кроме тостов с пожеланием друг другу счастья, возможности Е. П. жить в Ленинграде мы выпили за Россию, чтоб ей стало полегче, несчастной».
1 января 1946 года
О запрещенной литературе

«„…Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас“. (Деяния апостолов. Гл. 17, 27.)
Как-то вечером заходила ко мне А. А. Ахматова. Ей очень трудно живется. Домработницы держать она не в состоянии, и А. А. превращена в домохозяйку. Я ей напомнила об ее обещании дать мне списать ее поэму о Ленинграде, вернее о Петербурге. Она ответила, что помнит свое обещание, но принципиально его не выполняет. Ей бы очень хотелось дать мне поэму, т. к. я одна из немногих уцелевших современников, знавших среду и тех людей, о которых она пишет. Но сейчас очень крутые времена, распространять, читать сочинения авторов, находящихся под запретом, — Боже сохрани.
Кто-то в Москве в каком-то обществе прочел поэму Марины Цветаевой, написанную за границей. Этому человеку дали 5 лет . Я проводила ее до дому.
31 июля 1949 года
О советском искусстве
«Была в Третьяковке и осмотрела наконец советский отдел. Какая убогость, бездарность, безвкусие. Просто позор. Огромнейшее полотно Ефанова со товарищи, Лактионова „Пушкин осенью“ , на которое шутники на выставке выпустили живых муравьев, единственно, чего не хватало для полного натурализма!
Герасимов — портрет Мичурина под вишней в цвету, это же работа бездарного ученика. Такой невиданный в мире регресс.
Сталин в своей последней статье о языковедении нашел наконец слово, характеризующее режим: аракчеевщина. Il ne pensait pas si bien dire .
Он восклицает, смешивая Марра с грязью: почему никто не поднял голоса против ученья Марра ? Это же аракчеевщина.
Подыми-ка!
Ведь он же знает, что так во всем. Врубель спрятан, Петров-Водкин спрятан, „Мир искусства“ в темном углу, а все умные старые большевики расстреляны, ну да что говорить».
20 июня 1950 года
О водородной бомбе

«С месяц тому назад мне рассказали удивительную вещь. Рассказчица смутно знала подробности, но выводы ошеломляющие. Ученые обнаружили, что в составе древних тканей произошло изменение, изменилась формула. Их опыты ни к чему не привели, и они обратились к крупнейшему американскому ученому. Изучив вопрос, он пришел к выводу, что это явление — последствие разрывов водородной бомбы. Еще 200 взрывов — и все живое на нашей планете будет уничтожено, испепелится. Выпустили джинна из закупоренного кувшина, и он дает себя знать. Очень страшно. Может быть, люди и одумаются.
Вчера я с детьми была на блинах у Фришей. Я решила расспросить Сергея Эдуардовича. Как крупный физик, он должен знать правду. Я начала с того, что очень внимательно следила по газетам за Берлинским совещанием, и меня поразило то, что ни разу не подымался вопрос об „атомном оружии“. Что слышала, будто атомная или водородная бомба оказалась слишком опасной для всего человечества. Фриш подтвердил это.
Недаром Господь Бог запретил вкушать от древа познания добра и зла.
Захотели вкусить с таким аппетитом этого самого зла, что чуть было не подожгли свою собственную планету».
2 марта 1954 года
О взгляде на сад через решетку
«Шла от Анны Петровны пешком. Полная луна, звезды, легкий мороз. Около Медицинской академии остановилась, смотрела сквозь решетку. Средний корпус академии — типичный помещичий дом начала XIX века. Весь двор перед ним густо занесен снегом, кое-где следы по снегу, от фонаря легла длинная тень, в нижних окнах свет. Если забыть о темных боковых крыльях — совсем старое дворянское гнездо. Я медленно шла и останавливалась. Я люблю смотреть ночью сквозь решетки садов. Какое-то особенное чувство испытываю при этом, чувство, которое я не могу выразить словами. Что-то таинственное, какая-то таинственная и настороженная жизнь мерещится мне в закрытом наглухо саду или парке. Особенно я любила смотреть сквозь решетку на Люксембургский сад в Париже. Далеко где-то, за деревьями мерцают огни в домах. Статуи белеют, в саду ни души. Решетка ночью создает линию запрета, за которой возникает очаровывающее меня величественное одиночество, без людской суеты, туда не проникает „жизни мышья беготня“».
18 марта 1954 года
О старости
«От вынужденной ли неподвижности или чего другого я чувствую сильную слабость, t° часто ниже 36. Питаюсь я хорошо, отчего же такая расслабленность? Я не могу взяться за работу, перевод лежит без движения. Я глубоко себе противна, а как взять себя в руки, не знаю.
Еще хорошо, что в окно я вижу только верхушку яблони, увешанную яблоками, подальше, вероятно, столетнюю высокую ракиту с узкими длинными листочками, напоминающими японские гравюры.
И небо. А по утрам восход солнца.
Все эти немощи — это старость. До сих пор я ее не замечала. Теперь она передо мной лицом к лицу. Это страшно. Гораздо страшней, чем видеть смерть лицом к лицу.
Je suis payé pour le savoir . Знаю по собственному опыту».
4 июля 1955 года
О поездке в Швейцарию

«Какое это огромное счастье, даже чудо, — моя поездка в Женеву.
Я вновь познакомилась с братьями, с их миром, разыскала своих ближайших подруг детства, с которыми училась еще в Екатерининском институте, Олей Капустянской (Плазовской) и Олей Свечиной (Чухниной). Переписывалась с ними там все время, на Западе не приходится ждать ответа по месяцу и больше.
И эти два месяца с половиной, проведенные там, как свежий сон, без забот, без огорчений».
7 сентября 1960 года
О смерти
«Может быть, я суеверна (или легковерна), но у меня создалась за долгие годы уверенность, что я умру 28 октября. Кроме того, я верю, вернее, я убедилась за всю жизнь: если я вижу во сне красные ягоды, в особенности клубнику, я заболеваю.
В конце августа я видела во сне, что кто-то мне дает чудную, спелую, крупную ягоду, клубнику, и я подношу ее уже ко рту. Тут же вижу много спелых вишен, затем я сижу в лесу на невысоком старом пне и вижу: справа у пенька лежит связанный букетик ярких голубых незабудок. К чему это незабудки, к смерти или к жизни? Ягоды выполнили свое пророчество. Я заболела в начале сентября и лежу до сих пор: обострение стенокардии. А вот переживу я 28 октября или нет?
И конечно, многое не готово к уходу. Дневники мои приобретает Публичная библиотека. Это уже спасение. Года два тому назад Русский музей приобрел мои офорты. Но письма не разобраны, дневники не все приведены в порядок. Ну, ничего не поделаешь. Времени было как будто достаточно» .
20 октября 1966 года
ИСТОЧНИК: Арзамас https://arzamas.academy/mag/1279-shaporina

