О вреде предрассудков для развития науки писали многие. Но если верить народной мудрости, всё в нашей жизни может приносить и вред, и пользу — в зависимости от того, где и как применяется. У каждой медали — две стороны, и у каждой палки (как минимум) два конца (у рогатки — три). Змеиный яд в малых дозах — лечебное средство, а слишком большая доза некоторых витаминов смертельна.
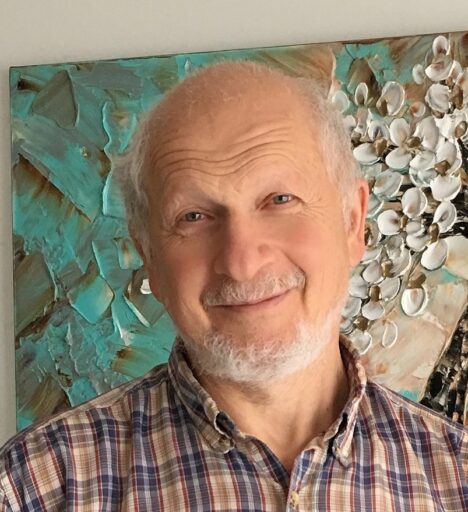
Геннадий ГОРЕЛИК
Комментарии к статье об истории квантования гравитации1 (QG) подвигли меня замолвить доброе слово о пред-рассудках в истории физики. Орфографию выделенного слова я нарушил сознательно, чтобы подчеркнуть, что речь идет о представлениях физика, которые не следуют из объективного научного знания, подкрепленного опытом, об идеях, живущих в сознании без разрешения рассудка, предшествуя конкретной изобретательной и рассудительной деятельности субъекта.
Но неужели такое бывает у людей науки, которые должны опираться на логику опыта и математический язык теории?
Сошлюсь на авторитеты. Согласно Эйнштейну, «наши моральные взгляды, наше чувство прекрасного и религиозные инстинкты вносят свой вклад, помогая нашей мыслительной способности прийти к ее наивысшим достижениям». Эти слова 1930 года не были случайной фразой в ненаучном контексте. Двадцать лет спустя Эйнштейн написал, что фундаментальные понятия и принципы — это «свободные изобретения человеческого духа, не выводимые логически из эмпирических данных», а «не согрешив против логики, обычно никуда и не придешь» (подразумевая логику предыдущей теории).
Нильс Бор выразил то же понимание еще круче: «Новая фундаментальная теория должна быть достаточно безумной, чтобы иметь шанс оказаться правильной».

Прежде чем обсуждать, какие пред-рассудки и как именно могли помочь в развитии физики, напомню, что оба авторитета говорили о фундаментальной части современной физики, в которой сделали свои главные изобретения и открытия.
Слово физика (от греч. «природа»), как известно, придумал Аристотель в Древней Греции еще до создания Евклидом и Архимедом первых физических теорий, доживших до нашего времени без исправлений. (До открытия Лобачевского геометрию Евклида вполне можно было считать физикой, описывающей свойства реального физического пространства.) И в этом чуде древнегреческой физики самым полезным оказался личный пред-рассудок атеистов, которые искали объяснение явлений природы, опираясь лишь на наблюдения природы, логику и математику, не привлекая многочисленных греческих богов и богинь.
Греческое чудо рождения науки, называемой ныне физикой, остается загадкой для историков науки (если не считать дилетантскую разгадку2, предложенную автором). Но нет уже загадки3, что отличает современную физику, родившуюся в XVI–XVII веках, от прекрасной физики древних греков. Фундаментальные понятия и связывающие их первые принципы (аксиомы) древнегреческой физики не требовали доказательства, поскольку были извлечены из общедоступно-наглядного опыта землемерия и взвешивания. А фундаментальные понятия и принципы современной физики при своем изобретении были настолько «безумны», что «образумить» их могла только экспериментальная проверка теории, основанной на них.
Первым таким принципом стал гелиоцентризм, отвергнутый еще древнегреческими астрономами, много веков спустя воскрешенный Коперником и в его руках принесший замечательные наблюдаемые следствия. Затем Галилей изобрел «достаточно безумное» понятие пустоты, Кеплер — астро-математику планет, Ньютон — гравитацию, Максвелл — электромагнитное поле, Планк — кванты энергии, Эйнштейн — кванты света и искривляемое пространство-время и, наконец, Бор — квантовые состояния. Все эти «безумства» дали не менее замечательные наблюдаемые следствия. И все эти «достаточно безумные» изобретения великолепной восьмерки4 могли быть сделаны лишь при участии каких-то пред-рассудков, которые помогли перепрыгнуть через пропасть незнания, иногда в два прыжка.
Разумеется, все эти великолепные изобретатели были глубоко погружены во все им доступные знания, полученные предшественниками экспериментально и теоретически. Но их пред-рассудки помогли нащупать в этих знаниях какие-то точки опоры для изобретательства, совершенно не убедительные для коллег изобретателя накануне и сразу после изобретения. Например, в «году чудес» Эйнштейна (1905), когда тот опубликовал три статьи нобелевского уровня, Планк сразу признал теорию относительности (и включился в ее развитие), но не принял идею квантов света, хотя сейчас кажется, что это было развитием идеи Планка о квантах энергии.
Еще ярче пример — восхищение, которое Эйнштейн выразил по поводу «примитивной», как сейчас кажется, теории атома, предложенной Бором в 1913 году. 35 лет спустя Эйнштейн, рассказывая о своих попытках развить объяснения фотоэффекта на другие явления, связанные с электромагнитным излучением, подытожил: «Все мои попытки приспособить теоретические основы физики к этим явлениям потерпели полную неудачу. Это было так, точно из-под ног ушла земля и нигде не было видно твердой почвы, на которой можно было бы строить. Мне всегда казалось чудом, что этой ненадежной и противоречивой основы оказалось достаточно для Бора, человека с уникальной интуицией, чтобы открыть основные законы спектральных линий и электронных оболочек атомов, включая их значение для химии. Это кажется мне чудом даже теперь. Это — наивысшая музыкальность в сфере мысли»5.
Тем самым Эйнштейн фактически признал, что его творческая интуиция, все его «морально-эстетические и музыкально-религиозные» пред-рассудки были неспособны помочь ему сделать такое изобретение.
Конечно же, развитие современной физики не сводилось к изобретению новых фундаментальных понятий. Такие изобретения влекли за собой создание теорий конкретных явлений и целых областей явлений на основе новых понятий. Этим занимались и сами «великолепные» изобретатели, и на порядок более многочисленные «просто великие» физики, о которых пишут в энциклопедиях. При этом весьма плодотворно действовал пред-рассудок научной инерции (безо всяких музыкально-религиозных инстинктов): вера в то, что для описания новых явлений вполне достаточно известных фундаментальных понятий и надо лишь на их основе изобретательно построить теорию.
Различие двух типов изобретательства проще всего пояснить с помощью детского конструктора. Одно дело — сконструировать из элементов набора нечто интересно новое, не предусмотренное приложенной инструкцией, и совсем другое дело — придумать новый элемент, который позволит создавать еще более интересные новинки. Первый — конструктивный — тип творчества реализовали Лаплас, Больцман, Дирак и многие другие, второй — фундаментальный — отличал изобретателей «великолепной восьмерки» (которые, конечно, решали и не фундаментальные проблемы).
Теперь всё готово, чтобы вглядеться в историю квантования гравитации (далее QG), о которой рассказано в моей статье «От гипотезы несохранения энергии до квантовой гравитации» 1. Напомню поворотные моменты этой драматической истории.
Драма идей, или Революционная эволюция фундаментальной физики
Проблему QG обнаружил Эйнштейн в 1916 году, опираясь на только что полученную им формулу гравитационного излучения, а также на свое представление о Вселенной (которое десять лет спустя оказалось совершенно ошибочным).
В 1929 году проблему поразительно недооценили видные квантовые теоретики Гейзенберг и Паули.
В том же 1929-м Бор в загадочных результатах ядерных опытов и в квантовом принципе неопределенности углядел гипотезу о том, что закон сохранения энергии не выполняется в ядерной физике, и этим предложил объяснить сияние звезд. Юный советский физик Ландау, узнав об этой «красивой идее» от самого Бора в Копенгагене, в 1931 году предложил ее теоретическое обоснование, которое Бор, однако… отверг. А в конце 1932-го Ландау осознал, что гипотеза Бора несовместима с теорией гравитации Эйнштейна.
Эта встреча двух фундаментальных теорий побудила Матвея Бронштейна (друга Ландау) углубиться в исследование проблемы QG. В 1935 году он построил первую физическую теорию квантования слабой гравитации, показал, насколько глубока проблема для сильных ситуаций и пришел к выводу, что полная теория QG потребует «отказа от римановой геометрии» для описания пространства-времени, «а может быть и отказа от обычных представлений о пространстве и времени и замены их какими-то гораздо более глубокими и лишенными наглядности понятиями».
С тех пор прошло 90 лет, теоретики опубликовали многие тысячи страниц на тему QG, но проблема так и не поддается решению.
«Это драма, драма идей…» — сказал Эйнштейн своему ассистенту, задумав написать совместно с ним научно-популярно-историческую книгу. Книга, вышедшая в 1938 году под названием «Эволюция физики», рассказывает в основном об истории фундаментальной физики, об изобретении фундаментальных понятий. Точнее было бы название «Революционная эволюция физики», поскольку каждое успешное изобретение нового фундаментального понятия в истории современной физики вело к революционной перестройке здания науки, сохраняя предыдущие понятия в ограниченном диапазоне явлений. В отличие от политических революций, которые рвут с прошлым, в ходе квантово-релятивистской революции, в 1920 году, Нильс Бор оформил указанную эволюционность в принцип соответствия, который применял в исследованиях.
Запал драмы QG — революционная гипотеза Бора 1929 года о несохранении энергии в физике ядра. Один из комментаторов6 сказанул, что придумал эту гипотезу «Бор сгоряча», а Паули спас сохранение энергии, придумав неуловимую нейтральную частицу, которая «всех удовлетворила».
Ситуация была совсем иной. Истинный скандинав Бор никогда ничего не делал сгоряча. И свою гипотезу он больше двух лет держал лишь в устной форме и в переписке с близкими критически мыслящими коллегами, прежде всего с Паули. И Паули долго не публиковал свою конкурентную гипотезу, а когда опубликовал, она мало кого удовлетворила. Большинство теоретиков, причастных к проблеме, предпочитали революционную гипотезу Бора. В 1932 году ситуацию изменили экспериментаторы, открыв нейтрон (и напомнив теоретикам о роли эксперимента). Новооткрытую частицу, однако, нельзя было назвать предсказанной Паули, она была в тысячу раз массивнее. Но к 1934 году усилиями экспериментаторов и теоретиков другая полу-предсказанная легкая нейтральная частица полу-вошла в физику с именем «нейтрино», а гипотеза о несохранении энергии в физике ядра ушла в историю науки.
Так, может быть, Бор все-таки погорячился? Нет. Это было не первым его покушением на закон сохранения и не последним.
О том, что закон сохранения был в 1920–1930-е годы уязвим, пишут редко и кратко. А одной фразой не объяснить, почему великий закон ставили тогда под сомнение. Великий закон испытал тогда целых три потрясения. И ко всем трем имел отношение один из величайших физиков XX века Нильс Бор, к первым двум — самое прямое.
Как известно, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А состояние науки и мышление исследователя иногда проявляется в заблуждениях не менее выразительно, чем в достижениях.
Впервые идею ограниченной применимости законов сохранения в микрофизике Бор опубликовал в 1923 году. Проблемой, из которой родилась эта идея, была несовместимость классического волнового описания света и представлений о квантах света, введенных Эйнштейном в 1905 году и лишь двадцать лет спустя получивших имя фотонов. Такая задержка отражала «безумный» характер изобретения, совершенно ясный самому изобретателю, который озаглавил свою статью осторожным свидетельством о рождении понятия: «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света». Изобретение оказалось «достаточно безумно», чтобы войти в науку и принести автору Нобелевскую премию 1922 года — за объяснение фотоэффекта с помощью закона сохранения энергии при взаимодействии кванта света с веществом. Однако «безумная» несовместимость не стала от этого меньшей.
Чтобы построить мост через пропасть между квантовым дискретным и классическим непрерывным описаниями, Бор предположил, что закон сохранения выполняется не для каждого отдельного акта «столкновения фотона с электроном», а лишь статистически. По опыту создания теории атома он знал, что пропасть не преодолеть, двигаясь малыми шагами. Физику-мыслителю Бору было труднее, чем другим, мириться с отсутствием «внутреннего совершенства» физической картины, и меньший вес имело «внешнее оправдание», каким располагала идея квантов света к 1922 году (в кавычках — выражения Эйнштейна о двух критериях истины в науке).
Внешнее оправдание стало еще большим после открытия в 1923 году эффекта Комптона и его фотонного объяснения также на основе законов сохранения. Это, однако, не уменьшило разрыв между корпускулярным и волновым описаниями, и Бор продолжал думать, что делать с квантами света. В 1924 году он (вместе с двумя соавторами) предложил подход к описанию эффекта Комптона, предполагающий соблюдение законов сохранения лишь статистически. Этот подход жил недолго: в 1925 году эксперименты ясно высказались за фотонное описание.
Так закончился первый натиск на закон сохранения. Для Бора, впрочем, он завершился не столько крушением его конкретной идеи, сколько коллективным построением общей квантовой механики, увенчанным в 1927 году принципом неопределенности Гейзенберга и принципом дополнительности Бора. Был построен долгожданный теоретический мост, связавший корпускулярное и волновое описания, правда, не света, а вещества. При этом благодаря Максу Борну статистический — вероятностный — язык описания физической реальности стал фундаментальным. И это могло подготовить Бора ко второй попытке усомниться в неприкосновенности закона сохранения в 1929 году.
Как два великолепных изобретателя скрестили свои пред-рассудки в физике и в метафизике
Как известно, Эйнштейн не верил, что «Бог играет в кости», т. е. что статистический язык неизбежен для описания физических основ мироздания. Это тем более удивительно, что Эйнштейн был первым, кто ввел в физику вероятностное, статистическое описание на фундаментальном уровне. В двух статьях 1916 года он предложил описывать электромагнитное излучение в среде как результат двух типов излучения отдельных атомов — спонтанного и вынужденного. При этом интенсивность спонтанного излучения зависит лишь от типа атома, но не от состояния среды, а вынужденное излучение пропорционально интенсивности спонтанного. Эйнштейну не нравилось, что пришлось предположить вероятностную основу, но результаты оказались настолько хороши, что он примирился: «Простота гипотез, общность и естественный переход к теории Планка позволяют считать весьма вероятным, что это рассмотрение станет основой будущих теоретических представлений. В пользу этого говорит то, что принятый для спонтанного излучения статистический закон есть не что иное, как закон Резерфорда для радиоактивного распада, и что результат… тождествен второму постулату теории спектров Бора… Слабость теории в том, что она не приводит к более тесному объединению с волновым описанием и в том, что время и направление элементарного [спонтанного] процесса предоставляются „случаю“, но я полностью уверен в надежности выбранного метода».
Итак, изобретая в 1916 году теорию излучения на основе сомнительного для него понятия «случай», Эйнштейн опирался на изобретение Планка (1900), эмпирический закон (спонтанного) радиоактивного распада (Резерфорд и Содди, 1903) и изобретение Бора (1913). А Бор, который в 1913 году опирался на сомнительное (не только для него) объяснение фотоэффекта действием квантов света (Эйнштейн, 1905) и на эмпирическую модель атома Резерфорда (1911), в 1923 году попытался устранить указанные Эйнштейном две «слабости теории» их идейным синтезом, ослабив корпускулярность света статистичностью законов сохранения. Это у него не получилось, но, подводя итог творческому взаимодействию Эйнштейна и Бора к концу 1920-х годов, надо признать, что дуэт двух великолепных изобретателей сработал прекрасно. В результате (при соучастии еще полдюжины недюжинных талантов) появились две теории, открывшие путь к созданию квантовой электроники, что радикально изменило ход мировой истории.
Достижения дуэта в физике не отменяют их знаменитое расхождение в метафизике — в их оценках будущего развития фундаментальной физики. В физике пред-рассудки должны считаться с физико-математическими результатами, а в метафизике все доводы лишь словесные и потому особенно подверженные влиянию ненаучных – «музыкально-религиозных» — факторов. На простецкую уверенность Эйнштейна в том, что Бог не играет в кости, Бор ответил более изощренно и тоже религиозно: «Еще древние мыслители призывали не присваивать Провидению свойств, выраженных в повседневных понятиях».
Что это значит?! Какое отношение такой язык может иметь к физике?!
Во-первых, напомню загадочные слова Эйнштейна о вкладе моральных, эстетических и религиозных чувств в «наивысшие достижения нашей мыслительной способности». А во-вторых, напомню два загадочных факта в истории физики — евроцентризм современной физики и тот факт, что все восемь великолепных физиков-изобретателей были библейскими вольнодумцами, хотя среди физиков атеисты всегда преобладали. Соединив эти две загадки, я предложил общую разгадку, знакомую7 читателям ТрВ-Наука, однако сейчас нас особенно занимают два великолепных изобретателя XX века — Эйнштейн и Бор.
Оба они в детстве приобщились к библейской религиозной традиции, но очень по-разному.
Согласно автобиографии Эйнштейна, он, «сын совершенно нерелигиозных (еврейских) родителей», знакомясь с библейскими сказаниями в еврейской традиции с помощью дальнего родственника, а с христианской традицией в католической школе, «пришел к глубокой религиозности». Свое первое мировоззрение он вспоминал как «религиозный рай», утраченный в возрасте 12 лет, когда для него открылся мир науки. На смену пришло «прямо-таки фанатичное свободомыслие», результатом чего стал и отказ от ритуала религиозного совершеннолетия (бар-мицва), которое в еврейской традиции наступает в 13 лет.
Отец Бора, профессор физиологии, атеист, выросший в лютеранской традиции, никогда не говорил с сыном на темы веры и неверия, но внимательно слушал самостоятельные религиозные сомнения взрослеющего сына и своей улыбкой поддерживал его свободомыслие 8. А мать выросла в культурной еврейской семье, и «межконфессиональный» еврейско-христианский брак, редкий в Дании того времени, обеспечил участие двух культурных традиций в атмосфере семьи. Получив в школе полный курс знакомства с протестантской традицией, Бор официально вышел из (Евангелическо-лютеранской) церкви Дании в 26 лет, услышав возмутившую его проповедь о катастрофе «Титаника», т. е., по сути, из-за религиозного несогласия. Поэтому, можно думать, что его «теологический» опыт был гораздо более взрослым, чем у Эйнштейна. Об этом говорит и его умудренный ответ на детский запрет Богу играть в азартные игры.
Оба физика (подобно их предшественникам по «великолепной восьмерке») из библейской культурно-религиозной традиции унаследовали главное ее отличие от всех иных — неотъемлемое право на творческую свободу, которым всех людей наделил Всевышний Творец. И этой свободой пользовались не только в физике, но и в своих размышлениях о роли религии.
Эйнштейн не раз говорил, что наука опирается на моральные постулаты, которые из науки вовсе не следуют, и объяснил это так:
«В науке могут творить лишь те, кто охвачен стремлением к истине и пониманию». Источник этого чувства, однако, находится в сфере религии. «Ибо знание того, что ЕСТЬ, не указывает, что ДОЛЖНО БЫТЬ целью наших устремлений. В здоровом обществе все устремления определяются мощными традициями, которые возникают не в результате доказательств, а силой откровения, посредством мощных личностей. Надо не пытаться оправдать эти устремления, а просто и ясно ощутить их природу. Высшие принципы для наших устремлений даны нам в Еврейско-Христианской [т. е. Библейской] религиозной традиции. Укоренение этих принципов в эмоциональной жизни человека кажется мне важнейшей функцией религии».
А Бор объяснил (Гейзенбергу), как именно религиозная традиция укореняется в эмоциональной жизни человека:
«По языку религия гораздо ближе к поэзии, чем к науке. Мы склонны думать, что наука имеет дело с объективными фактами, а поэзия — с субъективными чувствами. И думаем, что религия должна применять те же критерии истины, что и наука. Однако тот факт, что религии на протяжении веков говорили образами, притчами и парадоксами, означает просто, что нет иных способов охватить ту реальность, которую они подразумевают. Но это не значит, что реальность эта не подлинная…
…И не является возражением то, что разные религии стараются выразить это содержание в весьма различных духовных формах. Возможно, мы должны смотреть на эти различные формы, как на взаимно дополнительные описания, которые, хотя и исключают друг друга, нужны, чтобы передать богатые возможности, вытекающие из отношений человека со всей полнотой мира».
Как видим, Бор здесь применил свой принцип дополнительности, выработанный в размышлениях о квантовой теории, далеко за пределами физики.
Но имеют ли мысли Эйнштейна и Бора о религии какое-либо отношение к их расхождению во взглядах на будущее фундаментальной физики? Рискну предположить, что имеют. Не случайно же Эйнштейн так настойчиво повторял свою формулу о Боге (не) играющем в кости! При всем своем «фанатическом свободомыслии» он непринужденно пользовался религиозными словами, к недоумению некоторых друзей и коллег. На раздраженное недоумение своего друга Соловина (переводившего его статьи на французский язык) он ответил: «Вполне могу понять ваше отвращение к слову „религия“, когда имеется в виду некий эмоциональный или психологический настрой, наиболее очевидный у Спинозы. Но я не нашел лучшего выражения, чем „религиозная“, для уверенности в рациональной природе реальности, насколько она доступна человеческому разуму. Там, где отсутствует это чувство, наука вырождается в бескрылый эмпиризм. Какого черта мне беспокоиться, наживут ли попы на этом капитал?»
Смысл слова «религия» Эйнштейн знал на собственном опыте «глубокой религиозности» в детстве. Так что, если он, с его несомненным даром слова, не находил лучших выражений, чем религиозные, то, думаю, таких выражений попросту не было.
Не веря в то, что «Бог играет в кости», Эйнштейн говорил еще и об угрозе «закону причинности», дав повод думать, что стремится вернуть физику в старое доброе прошлое — к классическому детерминизму Лапласа. Это весьма поверхностный диагноз человеку, который своими достижениями не раз и не два решительно выходил за пределы классической физики. Как выяснил Паули в 1954 году в результате обстоятельного обсуждения с Эйнштейном, его «исходным пунктом», «философским предрассудком» был не детерминизм, а «реализм» — понятие гораздо более философское и неопределенное.
Неточным здесь мне кажется эпитет «философский». Физик и мыслитель Эйнштейн относился к философии с уважением, но без особого почтения: «Философия познания без контакта с наукой становится пустой схемой. Наука без философии, если таковая вообще мыслима, примитивна и путана. Однако, философ, ищущий ясную систему, если уж нашел ее, склонен интерпретировать содержание науки в смысле своей системы и отбрасывать всё, что в нее не укладывается. Физик же, благодарно принимая философский анализ понятий, стоит перед опытными фактами и не может позволить себе слишком ограничивать свои понятия приверженностью к какой-то философской системе. Системному философу он видится беспринципным оппортунистом: РЕАЛИСТОМ (поскольку старается описывать мир независимо от его восприятия); ИДЕАЛИСТОМ (считает понятия и теории свободными изобретениями человеческого духа, не выводимыми логически из опыта); ПОЗИТИВИСТОМ (считает свои теории оправданными лишь в той мере, в какой они представляют соотношения между чувственными восприятиями); ПЛАТОНИКОМ или ПИФАГОРЕЙЦЕМ (считает логическую простоту важным инструментом своего исследования)»
Поэтому в диагнозе, которым Паули определил «философский предрассудок» Эйнштейна, более точным мне кажется эпитет «религиозный».
Пред-рассудок философский или религиозный?
Эйнштейн был достаточно реалистическим физиком, чтобы признать квантовую механику «выдающимся шагом в физическом познании», «в известном смысле даже окончательным», но не совсем окончательным: «Мне представляется, что эта теория будет содержаться в более поздней примерно так, как геометрическая оптика в волновой». То есть он, вероятно, надеялся, что для будущей теории обнаружатся физические явления, не укладывающиеся в рамки квантовой механики, как не укладывались явления дифракции в рамки геометрической оптики.
Но почему он так думал? Как понять происхождение и смысл того пред-рассудка, который стоял за этим? И, наконец, почему я решился назвать этот пред-рассудок религиозным?
Для ответа на третий вопрос некоторые доводы я, собственно, уже привел. Суммируя всё сказанное Эйнштейном о религии, можно прийти к выводу, что он, 12-летний, самостоятельно выходя из детского состояния глубокой религиозности (в которое вошел так же самостоятельно), взял с собой во взрослую жизнь образ всеведущего Творца познаваемого Мира и прямолинейно-подростковое отрицание «всевышнего» присмотра за каждым поступком каждого человека с наградой и наказанием наготове. Свое взрослое религиозное чувство этот великолепный физик описывал так: «Работа в науке опирается на веру в упорядоченность и познаваемость мира, и это — чувство религиозное. Мое религиозное чувство — это смиренное изумление порядком, который открывается нашему слабому разуму в доступной части реальности». При этом признал, что «очень трудно объяснить это чувство тому, кому оно совершенно неведомо».
Познаваемость мира Эйнштейн называл «чудом, которое лишь усиливается по мере расширения наших знаний», не объясняя, почему чудо усиливается. Самую знаменитую статью об этом чуде «Непостижимая эффективность математики в естественных науках» написал в 1960 году скромный физик-теоретик и (три года спустя) нобелевский лауреат Е. Вигнер. Почему «скромный»? Потому что более точное название звучало бы «Непостижимая эффективность физиков-теоретиков, применяющих математику в физике». А еще потому, что автор предпослал статье смиренный эпиграф: «И совсем не исключено, что здесь еще кроется какая-то тайна, которую нам предстоит раскрыть».
Никто, однако, насколько мне известно, не пытался объяснить, почему чудо познаваемости «усиливается по мере расширения наших знаний». Попробую это сделать сам.
Если из физики XX века посмотреть на физику XVII века, трудно не удивиться тому, что столь простые понятия («примитивно-неправильные») и столь неточные опыты дали возможность понять столь многое в устройстве мироздания. Но если спросить, возможно ли было миновать эту «примитивную» стадию и сразу изобрести науку XX века, вряд ли кто придумает, как это могло бы произойти. Как Кеплер мог начать астро-математический поиск законов планетных движений без гелиоцентризма Коперника? Как Ньютон мог догадаться, что движения Луны и падающего яблока могут иметь единое объяснение, если бы не знал открытого Галилеем «простого» закона свободного падения, который не раз упомянул в своих «Математических началах»? Как известно читателям ТрВ-Наука, именно этот закон мог подсказать Ньютону идею всемирного тяготения, хотя, конечно, потребовался смелый взлет воображения, который называют творческой интуицией.
Необходимо было не только изобретение безумно смелых фундаментальных теоретических понятий, но и подкрепление их опытами. При этом помогала даже неточность опытов. Если бы у физиков XVII века были бы слишком точные приборы, они бы заметили отклонения от своих простых законов, что помешало бы принять эти законы.
И, наконец, в результате квантово-релятивистской революции стало особенно ясно, что мироздание устроено не просто познаваемым, но очень благожелательным к «познавателям», поскольку позволило им перепрыгивать через бездну незнания в два, а то и в три прыжка, иногда задерживаясь в невидимых точках опоры, накапливая знания для следующего прыжка. И, значит, чудо познаваемости действительно усиливается «по мере расширения наших знаний».
Эйнштейн не заявлял торжественно, что за этим чудом видит Творца, создавшего мир ради человека, но фактически именно это выразил шутливо в своем знаменитом афоризме: «Господь изощрен, но не злонамерен», — не злонамерен по отношению к кому? В каждой (продуманной) шутке, как известно, есть доля правды. В данном случае интересная правда состоит в том, что Эйнштейн не мог выразить эту свою — религиозную — мысль каким-то секулярным способом (предлагаю читателям поискать такой способ выразить благосклонность Творца к усердным творческим усилиям простых смертных понять устройство изощренно сотворенного мира).
Шутливый тон, однако, с трудом защищает Эйнштейна от упрека в непоследовательности. Взрослому физику не нравилась идея «Бога, который вознаграждает и наказывает», и он считал, что «учителя религии должны отказаться от доктрины о личностном Боге», и тогда «они наверняка с радостью признают, что истинная религия облагорожена и сделана более глубокой благодаря научным знаниям».
Вместе с тем зачатки своего «космического религиозного чувства», которое «не знает ни догм, ни антропоморфного Бога», ученый видел «во многих псалмах Давида и в некоторых пророках». Как Эйнштейн мог забыть неустранимое присутствие в псалмах и в книгах пророков личностного Бога, вознаграждающего и наказывающего, я объяснить не могу. Не могу также представить себе нечто безличное, которое, почему-то для чего-то сотворив изощренный мир, тайно помогает тем, кто изобретательно и смиренно занимаются его познанием. Эйнштейн признавал свою неспособность «собрать воедино, даже в малой степени, мысли всех тех, кто серьезно рассматривал вопрос, что такое религия». Не обязательно всех. В кабинете Эйнштейна, перед его глазами, были портреты двух великолепных физиков и библейских вольнодумцев — Ньютона и Максвелла, которые успешно сочетали свои понимания религии и науки. А двух других таких он знал лично — Планка и Бора.
Поэтому, размышляя, чем же отличался Эйнштейн от этой четверки, я подумал, что главное отличие было в его религиозном опыте, который начался в одиночку и закончился вместе с детством, вне общения с сознательными носителями религиозной традиции. Ведь проблема божественного воздаяния — одна из главных в библейской традиции. Этой теме посвящены две книги Библии — Иов и Экклезиаст. Но эти книги, как и сама проблема, не для детского чтения. Нужен немалый собственный жизненный опыт и опыт размышлений религиозных мудрецов.
Эйнштейн свою первую — детскую — потребность в целостной картине мира утолил в эмоционально доступном ему библейском взгляде, но, когда этот взгляд столкнулся с его набирающим силу интеллектом, подходящего собеседника в его семейном окружении не оказалось. И он, 12-летний, покинул «религиозный рай» детства ради свободы мысли, для которой именно тогда ему открылся простор научного познания мира. При этом навсегда осталось с ним разделение: образ всеведущего Творца, создавшего реальный физический мир, доступный познанию, и «очевидное» отсутствие божественно справедливого воздаяния в мире людей.
Вернемся к взгляду Эйнштейна на будущее развитие фундаментальной физики. Он вполне примирился с «неполным» описанием мира в квантовой механике, с ее вероятностным языком, как примирился с собственной идей спонтанного излучения. Но признать такую неполноту окончательной истиной означало бы, что и сам Создатель реального мира не знает точно и полно свое собственное создание. А это подрывает образ всеведущего Творца, не ведающего, что он сотворил. И тогда пришлось бы признать, что за чудом познаваемости мира никого и ничего нет, чудо повисло бы в бессмысленной пустоте. Такое признание было бы несовместимо с религиозным воображением Эйнштейна — с его религиозным пред-рассудком.
Поэтому мне и кажется уместным именно так уточнить выражение «философский предрассудок», примененное Паули. Понятия причинность и реальность, которые применял Эйнштейн, можно перенести из области физико-математической в религиозно-образную, где они легко соединятся и станут недоступны научной критике. При этом в физике останется понятие, которое Эйнштейн также применял при обсуждении проблемы «неполноты» квантовой механики, — неокончательность теории. И это могло примирить его с защитниками квантовой теории.
Ведь Бор, предлагая в 1913 году свою теорию атома, не раз отметил, что «ради простоты» принимает «скорость электронов малой по сравнению со скоростью света». И создатели квантовой механики прекрасно понимали, что это — не окончательная теория, поскольку она не учитывает теорию относительности. Именно эта неокончательность позволила Бору выдвинуть свою гипотезу о несохранении энергии в физике ядра, с чего началась драма идей в истории квантовой гравитации.
А самый поразительный — беспрецедентный — пример неокончательности дал сам Эйнштейн, когда, спустя считанные месяцы после создания своего главного шедевра — теории гравитации-пространства-времени, понял, что эта теория нуждается в модификации.
Почти наверняка Эйнштейн не узнал, что двадцать лет спустя, в далекой Советской России, ударными темпами строившей «научный социализм» и уничтожавшей «врагов народа», неведомый молодой коллега — Матвей Бронштейн — показал, что слово «модификация» слишком слабо, чтобы выразить глубину проблемы квантования гравитации. Открытие Бронштейна также было беспрецедентным в истории фундаментальной физики: впервые были указаны фундаментальные понятия — понятия пространства и времени, которые нуждаются в радикальном пересмотре, а то и в замене на более глубокие.
И тут напрашивается вопрос:
Когда же и как можно будет решить проблему квантования гравитации?
Согласно каталогу библиотеки Гарвардского университета, в период с 1975 по 2024 год опубликовано около 400 книг и около 20 тыс. статей, обсуждающих квантование гравитации. Однако проблема QG по-прежнему остается вызовом для фундаментальной физики, всё еще ожидая изобретение новых — «достаточно безумных» — фундаментальных физических понятий.
Уверенность Бора в том, что новая фундаментальная теория должна быть «достаточно безумной, чтобы иметь шанс быть правильной» вполне соответствует истории современной физики. Изобретение фундаментальных физических понятий стало самым мощным двигателем науки от гелиоцентризма Коперника до квантовых состояний Бора. «Достаточно безумное» означает неочевидное, невидимое, алогичное и даже абсурдное для коллег изобретателя в момент изобретения.
Для такого рода изобретений теоретик вынужден опираться на свою таинственную интуицию, в устройстве которой Эйнштейн, напомню, разглядел столь ненаучные силы, как «моральные взгляды, чувство прекрасного и религиозные инстинкты». Интуиция, однако, как и всё на свете, может помогать, но может и мешать. История физики XX века дала достаточно оснований, чтобы слегка подредактировать фразу Эйнштейна: «Наши моральные взгляды, наше чувство прекрасного и религиозные инстинкты вносят свой вклад, помогая [или мешая] нашей мыслительной способности прийти к ее наивысшим достижениям».
Не обсуждая разнообразные математические попытки квантовать гравитацию после переоткрытия работы Бронштейна, взглянем на физические неочевидные понятия, предложенные видными физиками.
Первое предложил пионер математического квантования гравитации Леон Розенфельд (1963), который выразил «сильное подозрение, что квантование гравитационного поля было бы бессмысленным» и заявил, что «нет никакого логического несовершенства в том, чтобы считать фундаментальной классическую, неквантованную форму уравнений, выражающую связь метрического или гравитационного поля с другими полями». Ту же, по сути, точку зрения выразил пионер квантовой электродинамики Фримен Дайсон9 (2004), предположив, что «квантовая гравитация физически бессмысленна» и что «у нас есть два отдельных мира: классический мир гравитации и квантовый мир атомов, описываемые разными теориями», которые «не могут применяться одновременно». На мое сомнение Дайсон (2006) ответил, что, по его мнению, Бронштейн «пришел к такому же выводу, когда обнаружил, что возможности измерения гравитационных полей в принципе ограничены тем фактом, что достаточно плотный измерительный аппарат коллапсирует в черную дыру. Это и мой главный вывод. Во всяком случае, для меня большая честь, что Бронштейн сделал то же открытие семьдесят лет назад».
Однако эта идея о макроскопической природе гравитации оставляет открытым вопрос: какая теория могла бы описать такие физические — хоть и экзотические — явления, как последняя стадия коллапса массивной звезды и начальная стадия расширения Вселенной (в этих явлениях гравитация, она же кривизна пространства-времени, и квантовые эффекты неограниченно велики)? Насколько я могу судить, большинство теоретиков не приняло (пока?) эту идею Дайсона всерьез.
Совершенно иной подход к квантовой гравитации — или скорее к квантовой природе классической гравитации — предложил Андрей Сахаров в 1967 году, видя во всем известной «ньютоновской» гравитации «метрическую упругость» квантового вакуума как результат его виртуальных флуктуаций. Эта идея настолько впечатлила Джона Уиллера, что он изложил ее в монументальной монографии 1973 года «Гравитация» (написанной совместно с Мизнером и Торном). Однако и эта идея (пока?) не привела к конструктивной теории.
Скоро ли удастся решить проблему квантовой гравитации?
В 1980 году Стивен Хокинг предсказал, что «окончательная теория — полная, непротиворечивая и единая теория физических взаимодействий, описывающая все возможные наблюдения» может быть создана уже «к концу [XX] века», и это будет означать «конец теоретической физики». Десять лет спустя другой Стивен (но уже нобелевский лауреат), Вайнберг, скептически оценил конкретную «основу чего-то вроде окончательной теории», предложенную Хокингом, однако подкрепил их общую с Хокингом уверенность книгой «Мечты об окончательной теории», где заявил: «Если история вообще является каким-либо руководством, то, думаю, она говорит, что существует окончательная теория».

И Вайнберг, и Хокинг писали, что следуют за Эйнштейном, но это далеко от исторической реальности. Эйнштейн действительно искал единую теорию гравитации и электромагнетизма, но никогда не упоминал ядерные силы и не мечтал (открыто) об «окончательной теории всего». Совсем наоборот, по мнению Эйнштейна, «наши представления о физической реальности никогда не могут быть окончательными. Мы всегда должны быть готовы изменить эти понятия — то есть аксиоматические основы физики, — чтобы отдать должное воспринимаемым фактам логически самым совершенным образом»; «Закон не может быть совершенно определенным по той причине, что понятия, с помощью которых мы его формулируем, развиваются и могут оказаться недостаточными в будущем. В основе каждого тезиса и каждого доказательства остается некоторый остаток догмата непогрешимости».
В наши дни мечта о «счастливом конце теоретической физики», кажется, вышла из моды. И если история фундаментальной физики действительно дает какой-то ориентир, то напоминает, что время, необходимое для разрешения теоретического противоречия/несовместимости, может быть довольно долгим. Потребовалось более века (и Ньютон), чтобы разрешить несовместимость «абсурдного» гелиоцентризма Коперника и здравого (научного) смысла великого астронома Тихо Браге, как и большинства его коллег. Потребовалось более двух столетий (и Эйнштейн), чтобы разрешить несовместимость «абсурда» гравитации, действующей «на расстоянии через вакуум, без посредничества чего-либо другого», и здравого (философского) смысла выдающихся коллег Ньютона и его самого.
Так что, ожидая решение проблемы несовместимости теории гравитации-пространства-времени и квантовой механики, придется запастись терпением. А пока стоит задуматься о том, что проблема теоретической физики всё больше выглядит вопросом философии (точнее — эпистемологии) науки, и задать себе странный вопрос: а не может ли проблема QG остаться нерешенной еще неопределенно долгое время?
Пример из истории, несколько уменьшающий странность этого вопроса, дает представление, популярное среди физиков-теоретиков на рубеже 1920–1930-х годов. Тогда считалось, что безразмерные — чисто-математические — величины, характеризующие мироздание, такие, как отношение масс электрона и протона и постоянная тонкой структуры, должны быть как-то объяснены теоретически. Это представление довольно быстро вышло из моды. А возникший в 1950-х эскиз объяснения, называемый сейчас «антропным» или «тонкой настройкой вселенной», не выдерживает критики хотя бы потому, что принципиально не может объяснить точное значение указанных безразмерных величин. Но здесь по крайней мере были величины, доступные измерению. А для теории квантовой гравитации пока не известно никакого эмпирически доступного явления.
И возникает еще более странный вопрос: а на чем, собственно, основана уверенность, что проблема QG может быть решена?
Геннадий Горелик
1 Горелик Г. От гипотезы несохранения энергии до квантовой гравитации: Нильс Бор, Лев Ландау и Матвей Бронштейн // ТрВ-Наука № 409 от 30.07.2024. trv-science.ru/2024/07/ot-gipotezy-nesohraneniya-energii-do-kvantovoj-gravitacii/
2 trv-science.ru/2021/02/s-chego-nachinaetsya-fizika/
3 trv-science.ru/2019/08/prosvetitelstvo-i-zagadka-sovremennoj-nauki/
4 trv-science.ru/2019/08/prosvetitelstvo-i-zagadka-sovremennoj-nauki/
5 Мур Р. Нильс Бор – человек и ученый. – М.: Мир, 1996.
6 trv-science.ru/2024/07/ot-gipotezy-nesohraneniya-energii-do-kvantovoj-gravitacii/#comment-1227865
7 trv-science.ru/2019/08/prosvetitelstvo-i-zagadka-sovremennoj-nauki/
8 Об этом Бор рассказал в письме невесте: «Посмотри: маленький мальчик идет по заснеженным улицам со своим отцом в церковь. Это единственный раз в году, когда его отец ходит в церковь, чтобы его сынок не замечал, чем отличается от других маленьких мальчиков. У отца не было ни веры, ни сомнений в таких вещах, но он никогда не говорил сыну ни слова о чем-либо, связанном с верой или сомнением. Когда же мальчик подрос и однажды, после своих одиноких сражений, пришел и сказал отцу, что не может себе представить ничего более ужасного, во что раньше верил всей своей детской душой, то и тогда отец ничего не сказал, а лишь улыбался. И эта улыбка многому научила мальчика».
9 trv-science.ru/2020/03/dyson-i-saxarov/
ИСТОЧНИК: Троицкий вариант https://www.trv-science.ru/2024/10/o-roli-pred-rassudkov-v-progresse-nauki/



